Когда моя сестра назвала своего новорожденного сына Мартином, как и моего, я отнеслась к этому как к странному совпадению. Но несколько недель спустя, после внезапной смерти нашей матери и шокирующего оглашения ее завещания, я поняла, что у Эмили всегда был план — и он начался с этого имени.
В коридоре перед родильным залом пахло дезинфицирующим средством и чем-то еще — чем-то более древним, тяжелым.
Он напоминал мне о страхе, который слишком долго сидел на месте. Стулья были жесткими, пластиковыми и холодными даже сквозь пальто.

Я села рядом с Джейком, мужем моей сестры. Наши колени почти соприкасались, но казалось, что мы сидим за много миль друг от друга.
Он снова и снова проводил ладонями по своим джинсам, как будто мог стереть все мысли, которые пытался не думать.
«Никаких криков… может, все прошло хорошо?» спросил я, стараясь, чтобы мой голос был легким. Я слабо улыбнулся, но этот вопрос повис в воздухе, как вопрос, на который никто не хотел отвечать.
«А может, наоборот», — сказал он, не глядя на меня, его голос был ровным. Его глаза были устремлены в пол, словно он боялся поднять голову и увидеть что-то, с чем не сможет справиться.
Я огляделась. В коридоре было тихо — вдалеке проехала тележка, одна из тех металлических, с грохочущими колесами.

Мне хотелось поговорить — о погоде, о торговом автомате, который выдавал только диетическую колу, о чем угодно, лишь бы снять напряжение.
Но Джейк был не в настроении. Он выглядел как человек, находящийся на краю чего-то глубокого и холодного.
В этот момент дверь со скрипом открылась. Медсестра с добрыми глазами и усталыми плечами высунула голову.
«Вы можете войти».
Мы с Джейком встали одновременно, но я подошла к двери первой. Внутри все было слишком белым — свет, простыни, даже стены. Машины тихонько пищали, мигая, как тихие удары сердца.
И там была она. Эмили.
Моя сестра выглядела как человек, побывавший на войне и вернувшийся обратно. Ее лицо было бледным, губы сухими и потрескавшимися.

Под глазами были темные круги, словно она не спала неделю. Но она улыбалась, а в ее руках лежало самое крошечное существо, которое я когда-либо видел, — розовое, сморщенное и живое.
Ребенок тихонько извивался у нее на руках, издавая эти маленькие звуки новорожденного — полувздохи, полуписк.
Джейк задохнулся и прислонился к стене. Его лицо побледнело, и я забеспокоилась, что он упадет на пол. Я положил руку ему на спину и легонько подтолкнул его к стулу.
«Мужчины», — сказал я с ухмылкой, пытаясь поднять настроение. «Строятся, как грузовики, а падают, как перья».
Эмили тихонько рассмеялась, как будто на то, чтобы вытолкнуть его, у нее ушло все, что она имела. Она наклонила сверток, чтобы я мог лучше его разглядеть.
Мое сердце сжалось. Он был прекрасен. Маленький и совершенный. Новая жизнь, прямо у нее на руках.

«Он прекрасен», — прошептала я.
Эмили медленно кивнула. «Его зовут Мартин».
Я моргнула. Воздух изменился — как будто по тихой комнате пронесся ветерок.
«Мартин?» спросила я. «Вы имеете в виду…?»
«Да», — сказала она.
«Что-то не так, сестра?» — спросила она, не сводя с меня глаз.
«Ты знаешь, что моего сына зовут Мартин».
Эмили пожала плечами. «Многих мальчиков зовут Мартин. Ты же не защитил его авторским правом».
Я заколебалась. «Это просто… удивительно».

«Прими это как комплимент. Мне понравился твой выбор», — сказала она.
Я заставил себя улыбнуться. Моя челюсть была напряжена.
«Ну ладно», — сказал я. «Я потом принесу тебе фруктов из магазина».
Она снова кивнула. Мы обменялись взглядами, которым я не мог дать названия. Он не был теплым, но и не был холодным. Но он лежал между нами как камень.
Что-то за ее улыбкой не было похоже на восхищение.
Недели проходили как ленивая речная вода — медленно, мутно и безрезультатно. Дни казались тяжелыми, один сменялся другим без особых примет.
Мы с Эмили почти не виделись. Изредка переписывались, иногда фотографировали малышей, но на этом все заканчивалось. Я решил, что это туман новорожденности.
Я помнил, какими тяжелыми могут быть первые месяцы — бессонные ночи, безостановочный плач, то, как время тает, словно масло на горячей плите.
И все же что-то в том, как Эмили говорила во время нашего последнего телефонного разговора, зацепило меня. Оно засело у меня в груди, как камень, который я не мог вытряхнуть.
Ее голос был резким и торопливым, словно она пыталась не заплакать и не закричать. Я не спросил. Может, стоило.
Эмили жила с нашей мамой. Ей было 84 года, и за последние несколько лет она немного побледнела. Ее шаги стали медленнее, а мысли блуждали.

Иногда она все еще была острой, особенно когда рассказывала старые истории или высказывала свое мнение, которого никто не спрашивал.
Но в большинстве случаев она была скорее памятью, чем мышцами. Я решил, что Эмили помогает по дому.
Но помощь, как я поняла, может казаться призраком, когда никто не говорит о правде. А в нашей семье правда часто сидела за закрытыми дверями, покрываясь пылью.
Затем наступила ночь. Я только что уложила Мартина, поцеловала его в лоб и закрыла дверь его спальни.

Я стояла на кухне с кружкой остывшего чая. Часы мигали 10:47 вечера.
Зазвонил телефон.
Я смущенно улыбнулась. «Звонишь мне в такой час, Эм? Что за драма?»
В трубке раздался ее голос, мягкий и низкий. «Мама ушла».
Я встал так быстро, что мой стул заскрипел по полу. «Что?»
«Она умерла во сне. Медсестра сказала, что она была спокойна».
Мои глаза наполнились слезами. «Эмили… Я…»

«Я знаю», — прошептала она. «Я должна была позвонить раньше. Но я просто… не могла».
Когда звонок закончился, на кухне воцарилась густая тишина. Я снова уставился на часы и пожалел, что не могу повернуть их назад.
Я ненавидела себя за каждый визит, который я откладывала, за каждый звонок, который я не сделала.
В гостиной пахло кедром и забытыми праздниками. Этот запах — частично дерева, частично пыли и частично воспоминаний — возвращал меня к рождественским утрам и именинным пирогам на старом обеденном столе.
Но сейчас в доме было слишком тихо. Никакого смеха.
Нет звона посуды. Только мягкий скрип диванных пружин, когда мы с Эмили сидели бок о бок, застывшие и неподвижные.
В то утро мы почти не разговаривали. Я налил ей кофе. Она едва притронулась к нему. Я предложил тост.
Она покачала головой. Теперь мы сидели на мамином диване с цветочным принтом, который потускнел со временем, но все равно казался слишком жизнерадостным для такого дня.
Мы были похожи на двух девочек, ожидающих плохих новостей из кабинета директора.
Напротив нас мистер Говард, мамин адвокат, поправил очки и открыл толстую папку.

Его костюм был слишком велик, или, может быть, его плечи уменьшились с годами, когда он занимался подобными вещами — сидел с семьями, читал слова, которые вырывали почву из-под ног людей.
Он прочистил горло. «Ваша мать оставила завещание».
Эмили сложила руки на коленях. Я старался не ерзать, но моя нога продолжала постукивать.
«Большая часть ее имущества — драгоценности, сбережения, машина — должна быть разделена между вами двумя».
Я слабо кивнула. Эта часть не удивила меня. Мама всегда говорила, что хочет быть справедливой.

«Но дом, — продолжил он, — достанется ее внуку. Мартину».
Мои губы скривились в улыбке. Мое сердце немного смягчилось. «Она всегда так говорила. Говорила, что он должен остаться с первым внуком».
Но тут я почувствовал, как Эмили сдвинулась рядом со мной. Это было не просто случайное движение. Оно было жестким, как предупреждение. Ее голос прорезал тишину. «Какой Мартин?»
Я повернулся к ней, потрясенный. «Что?»
«Теперь Мартинов двое», — сказала она, ее голос был напряженным. «Она так и не сказала, какой именно».

Мистер Говард нахмурился, перелистывая страницу. «Здесь нет никаких пояснений. Только «моему внуку Мартину»». Он взял в руки рукописное завещание. «Никакого второго имени. Нет даты рождения».
«Она имела в виду моего Мартина», — сказала я, и мой голос прозвучал громче, чем я хотела. «Того, которого она помогала растить, пока Эмили путешествовала по стране в погоне за йогой и новыми диетами».
Челюсть Эмили сжалась. «Она тоже жила со мной. Особенно в последние месяцы жизни. Вас там не было».
Мистер Говард поднял руку. «Позвольте мне закончить. Дата на этом завещании стоит через месяц после рождения вашего сына, Эмили. Так что юридически возможно, что она имела в виду любого из детей».

Я почувствовала, как у меня сжалась грудь. «Вы назвали его Мартином, не так ли?» Я повернулась к ней, мой голос дрожал. «Именно поэтому. Ты знала, что это случится».
Ее лицо покраснело. «Не будь смешным».
«Ты едва позволил ей подержать твоего ребенка, а теперь думаешь, что она имела в виду его?» Мои слова прозвучали быстро и резко. «Ты манипулировал ею».
«Прекрати», — огрызнулась она. «Ты всегда думаешь, что все знаешь».
Мистер Говард вмешался. «Возможно, нам придется обратиться в суд. А пока дом находится в совместной собственности обоих мальчиков».

Мне стало плохо. Комната слегка закружилась. Я уставилась в пол, стараясь держать себя в руках. Я не собиралась оставлять это без внимания. Не после всего. Не без борьбы.
В ту ночь в доме было слишком тихо. Это была не мирная тишина. Она давила на уши и заставляла обращать внимание на каждый скрип, каждый вздох, каждое биение сердца.
Такая тишина заставляла вспоминать то, к чему ты не был готов.
Я ходил по комнатам, как незнакомец в своих собственных воспоминаниях. В коридоре пахло лимоном и временем.
Я прошел мимо кухни, где мама напевала, очищая яблоки. Я почти слышала ее голос.

Когда я переступила порог ее спальни, до меня донесся аромат. Розовая вода. Мягкий, сладкий и немного пыльный.
Он все еще витал в воздухе, цепляясь за занавески и старые свитера, аккуратно сложенные на комоде. У меня загорелись глаза.
Ее стол стоял у окна, все еще грязный, как будто она только что отошла — кроссворды с наполовину заполненными коробками. Клубок пряжи с вязальными спицами, воткнутыми в него, как мечи.
И записки — маленькие, как всегда. Она всегда писала напоминания на липких записках, салфетках и обрывках бумаги.

Одна записка гласила: «Положи белье в сушилку. Спроси Джейка о счете за газ». Я улыбнулся, представив, как она бормочет про себя, когда пишет это. Но потом моя улыбка угасла.
Что-то в почерке…
Я достал телефон и открыл фотографию завещания. Положила записку рядом с ним.
Та же кривая буква «М», те же аккуратные петельки — поначалу. Но дата в завещании была слишком сильно сдвинута вправо. Чернила выглядели более свежими.
А слова «моему внуку Мартину»? Они выглядели так, будто прикрывали что-то другое.

У меня свело желудок.
Что-то было не так.
На следующее утро мистер Говард вернулся. На нем был тот же усталый костюм и та же папка, но на этот раз что-то в его выражении лица казалось более жестким.
Он сел за кухонный стол, положив папку так осторожно, словно она была сделана из стекла.
Мы с Эмили сидели напротив друг друга, и пространство между нами казалось шире, чем вся комната.

«Мы проконсультировались со специалистом по криминалистике, — начал мистер Говард, его голос был низким и ровным. «Но прежде чем я продолжу…»
«У меня есть кое-что», — вклинился я, потянувшись в карман пальто. Мои пальцы слегка дрожали, когда я вытащил записку, которую нашел на мамином столе, и протянул ее через стол.
Он поднял брови, поправил очки и наклонился ко мне. «Где ты это нашла?»
«На ее столе. Это ее стол. Я бы поставил на это свою жизнь».
Сначала он не ответил. Он положил записку рядом с завещанием, медленно водя глазами туда-сюда.

Он изучал изгибы, наклоны, то, как буквы вдавливаются в бумагу.
«Возможно, вы правы, — сказал он наконец. Он постучал пальцем по завещанию. «На самом деле… посмотрите сюда». Его палец остановился на странице.
«Три места — дата, имя и вот это размазанное слово — не совпадают. Кто-то изменил это. Почерк не принадлежит вашей матери».
Эмили встала так быстро, что стул заскрипел. «Это безумие».
Я посмотрел прямо на нее. «Вы подделали завещание».

Ее лицо изменилось. На нем появилась смесь гнева и печали. «Вы не знаете, каково это было!» — закричала она.
«Жить с ней каждый день. Смотреть, как она смотрит на вашего сына, словно он повесил луну, а я просто… была рядом».
«Ты лгала», — сказал я, тоже вставая. «Ты назвал сына Мартином, чтобы получить право на дом».
«Она хотела, чтобы у тебя было все», — сказала она, голос треснул. «Ты был ее ангелом. Я была запасной».
Слезы наполнили ее глаза. «Я ненавидела это имя. Я ненавидела называть его Мартином. Но я все равно это делала».
Я смягчилась. «Мне очень жаль, Эмили. Но ты переступила черту».
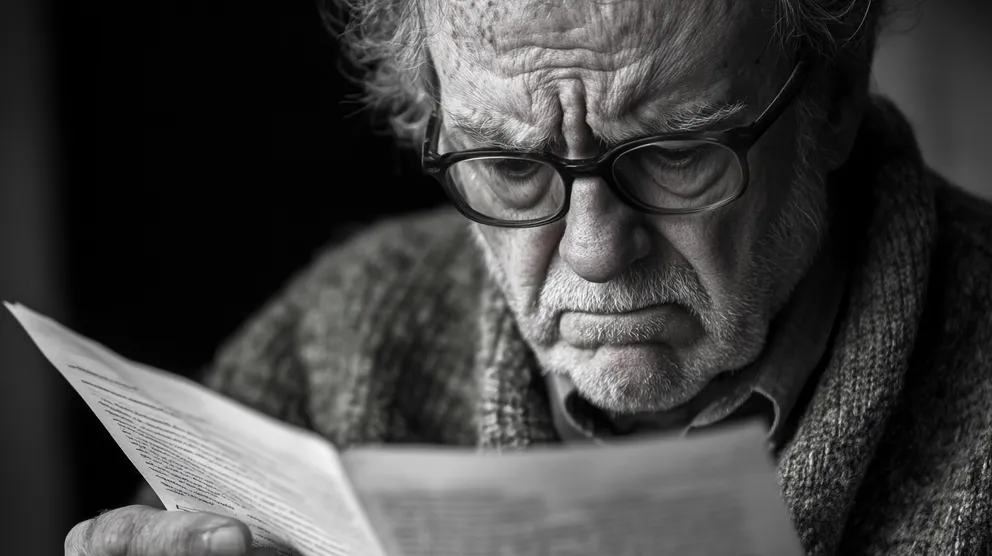
«Я жила с ней. Я заботилась о ней. Я заслужила этот дом!» — кричала она.
«А потом ты пыталась украсть его, — ответил я, — у своей собственной семьи».
Она взорвалась. «Забери свой чертов дом! И имя своего проклятого сына!»
Дверь захлопнулась за ней. Я сел обратно, звук звенел в ушах. Тишина вернулась, но на этот раз она не была спокойной. Она казалась разбитой.
Я протянула руку и провела пальцами по тому месту, где обычно сидела мама, где от ее чашки всегда оставался слабый круг.

«Я все исправлю, мама», — прошептала я. «Как-нибудь я это исправлю».
Расскажите нам, что вы думаете об этой истории, и поделитесь ею со своими друзьями. Возможно, она вдохновит их и скрасит их день.
